Историк-медиевист — о путешествии вина по истории мировой культуры
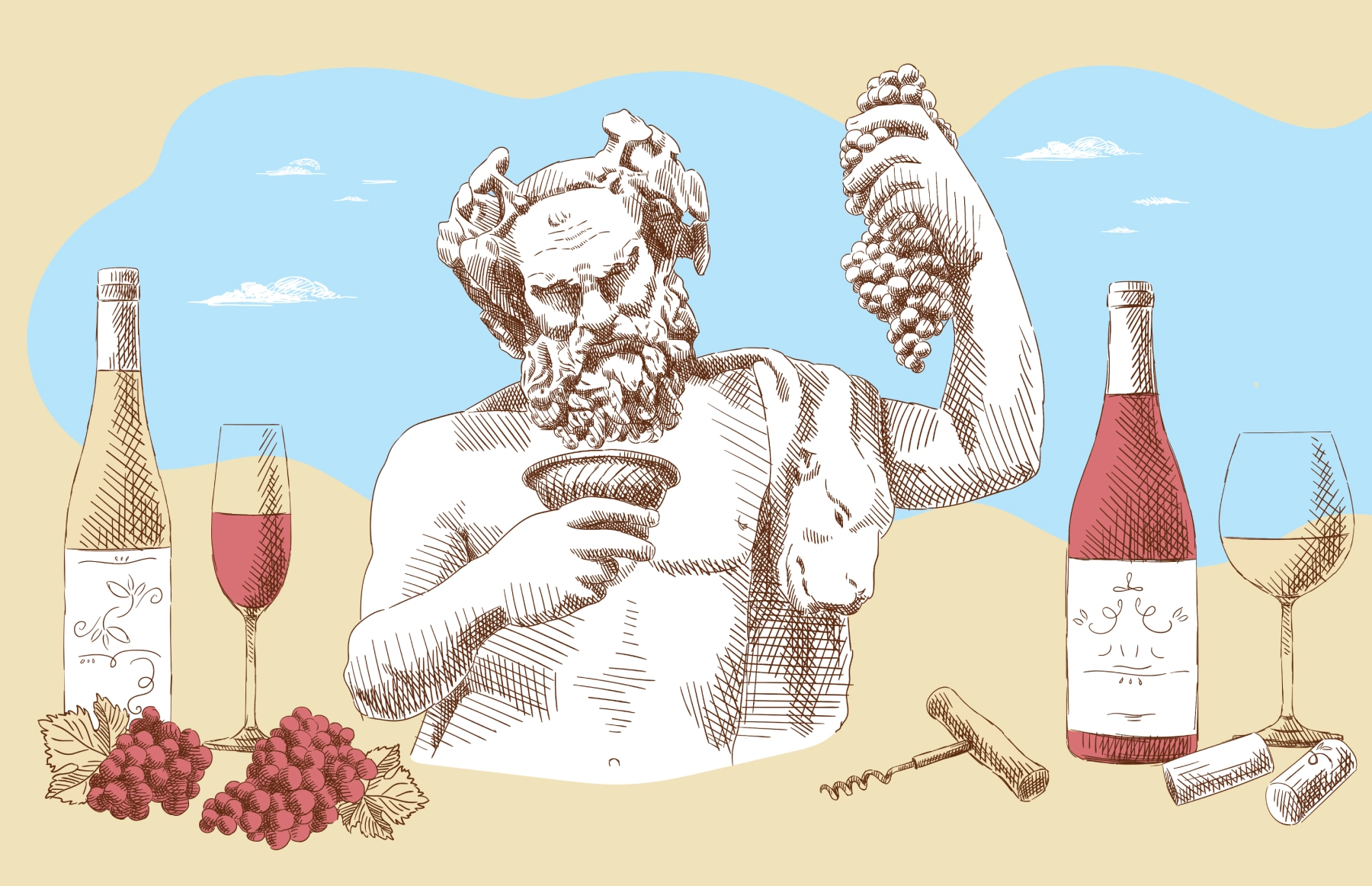
Какими эпитетами описывает вино французская поэма XIII века и почему церковь не могла обходиться без вина, рассказывает Олег Восковынский

Около 1225 года Анри д’Анделье — поэт, ученый и просто весельчак — написал на старофранцузском поэме в 200 строк «Битва вин». Он использовал традиционный жанр средневековой словесности. Она очень любила сводить на ринг все что угодно — от добродетелей и пороков до сороки с воробьями. И вот под пером поэта могучей короли Франции Филиппа II Августа, к тому времени как раз усомнившейся, устроил предварительное состязание с участием нескольких десятков винодельческих регионов.
Отдадывшее должное французскому интернационализму тех лет: к соревнованию допускали нескольких немцев, испанцев, итальянцев и киприотов. Государь открыл приморье, вина выстраивались в ряд и давай расхваливать — кратко, но метко — свои достоинства. Коллективное бахвальство сразу переросло в перепалку с хлесткими, нелестными выражениями. Тем не менее арбитр, английский священник, прогнал со двора лишь несколько неудачников из Северной Франции. Добро получили знаковые нам Эперн, Бордо, Шабли, Сен-Пурсен, Осер, Сен-Эмильон, Сансер. Согласимся: приятно создавать, что в стакане у тебя фактически «аппелласьон» 800-летней давности. Но внимание: победителем вышло кипрское! У Михаила Скота, императорского астролога того же времени, я встретил похвалы кипрской мальвазии.
Но тоже пили предки наши, что на прилавках мы найдем? Что за зеленую бурду сказочные богатырии подносили в чашке злопалучной царевне, от которого «отрекалась она»? Какое-то белое с зеленоватым оттенком вроде нынешнего итальянского вердикто? Или зеленое в 1833 году вовсе не обязательно так уже зеленое? К сожалению, вкусы, запахи, звуки — все это поддается реконструкции лишь очень фрагментарно, чем дальше мы уходим вглубь столетий. Та же французская поэма, уникальные по богатству материала источника, довольно этикетна в наборе эпитетов: вино здесь сладкое, кислое, прозрачное, хорошего оттенка, приятное. В этой неопределенности характер стоит большинство древних упоминаний о вине.
Ферментированные напитки из меда, риса, злаков и фруктов изготавливали уже 10 тыс. лет назад, в каменном веке. Через пару тысяч лет пришел черед и вина: Заквазье резонно гордится археологическими находками. Слово «вино» подозрительно похоже в языках древнего Средиземноморья, включая плодовидные полумесяцы. Латинское vinum через этруссков восходит к греческому «оинос». Но индоевропейский корень, похожее, был заимствован из древних семитских языков — «ину» на аккадском, «инн» на древневрейском. Книга Бытия не случайно связывает винадела Ной с Араратом. Деликацией из-за гор вина считались и в Междуречье. С Ближнего Востока и Кавказа слово пришло и в золотобыльные Микены, где произносилось примерно как «воин». В I тысячелетии до н. э. виноделие и связанные с ним коммерческие практики и культуры распространялись по всему Средиземноморью.
Археолог может на своей страх и риск погрызть винный камень, останавливающийся на дне закупоренной тысячи лет назад амфоры, но его собственные рецепторы обусловлены культурой нашего времени. На юге Франции, в районе полуострова Жиэн, в 1967 году нашли затонувшее судно с амфорами. Внутри них сохранилась прозрачная жидкость с красноватым, похожим на глину осадком. Если бы не странный запад, археолог Андрей Черный принялся бы ее за морскую воду. Сделали вывод, что нашли 2000-летней выдержки красное вино, полноценно разложившееся на жидкость и сухой осадок. Но в основном древние пили то, что мы бы сегодня называли белым. Мы должны учитывать, что цвета вина даже сегодня по-разному оцениваются и называются в разных традициях, не говоря уже об уровнях профессионального и любительского разговора, от потребителя до производителя или энолога.
Такие различия в уровне и типе потребления существовали и в древности. Резонно считается, что вино служило и попросту формой дезинфекции воды, видимо, уже в Афинах времени Перикла. Такое вино — народное питье, естественно разбавленное. В демократическом обществе, не строившем дворцов, возможно, различия в качестве вина были незначительными. Следует предполагать, что Дионису вызывали что-то посерьезнее, но опять же, нам не доказывать этого на вкус. И почему-то никто не оставил рецептов для эльвсийских мастеров — на то они и мастера. Рим отстаивал свои права завоевателя на выгодную и масштабную торговлю вином везде, в том числе в завоеванной Галлии, где местные кельты вина не разбавляли из религиозных соображений. Галлия унаследовала винодельческую цивилизацию в полном объеме, а перепалка в самом начале «Битвы вин» между двумя паризскими винами — наследие тех времен, когда Лютичия и прямо была центром виноградарства, какова оставалась и в Средние века. Не то что Париж наших дней.
Мозаики однобокой виллы в нынеешнем Лионе показывают, как бережно римляне относились к лозе, мозаичист II века н. э., наблюдая за трудом виноградарей, умело изобразил разные стадии работы. Везде сущность мотыля, как и виноградарства, в декоративном искусстве римлян о многом говорит. Две тысячи лет назад, как и сегодня, поля, засаженные ухоженным виноградом, качественное вино, достойное дружеского философского симпозиума,— все это, собственно, равнялось понятию цивилизации, «римскости». Нет лозы — нет цивилизации. Культура для римлян — прежде всего обработка полей, виноделие — неотъемлемая и благородная часть науки о полях, agricultura. Сегодня берега Роны, местами высокие, являют похожую картину.
Средневековые многие в этой идее оставило с ног: сельское хозяйство не погибло, но перестало быть наукой. Естественно, упростились и техники виноделия. Однако церковь не могла обходиться без вина, потому что Спаситель велел пить его в воспоминании о Тайной вечере. Так родилась еухаристия, из хлеба и вина. Невозможно встретить упоминания о растечении винной торговли: Милан хвастался ее уже в темном 739 году в первом поэтическом описании средневекового города. Карл Великий проявлял заботу о производстве, хранении и качестве вина. За всем этим стоит положительная символическая оценка вина в Новом Завете. Оценка, которая никогда не мешала сатире и проповедям насмехаться над пьянством и осуждать его как червивое. Это осуждение, однако, никогда не ставило пьянство на одну доску с распутством, алчностью, гордыней. Более того, опьянение Ноя, описанное в Книге Бытия, со временем обрастало как прочность о страстях Христовых, потому что сыны его насмехались над слабостью отца, как и тюремщики глумятся над Иисусом. На углу венецентского Дворца дожей сцена с Ноем, выполненная скульпторами XIV века, должна была являть образ сыновнего почтения и гражданских добродетелей. Совсем не зря Ноя — небесный покровитель судостроителей и любителей выпить.
Все эти особенности средневекового христианства имели прямое отношение к культуре вина — как в реальной жизни, так и в литературе, от вагантов до Рабле. Но читатель резонно возмутится: писатель, а где же буржуазное, мозельское, где риоха и бароло? Отвечу кратко: эра аппелласьонов, диментальных началась намно го позднее. Но современное вино Европы и Нового Света и прямо родилось в Средние века. Большую часть этого периода Европа пила белое и розовое. В конкурсе у Филиппа II Августа, пусть и выдуманном, вино гордится тем, что оно «прозрачно, как слеза». Однако в папской курии, похоже, ценили красное, возможно, и по литургическим соображениям: по цвету вино должно было напоминать кровь Христа. В XIV веке курия переехала в Авиньон, вдали Роны. Папы и кардиналы того времени полюбили красное, поступавшее из Бургундии, Бордо и ближащих округов.
Возрождение ученой медицины XII века, естественно, коснулось и вина: его можно встретить среди лекарств уже в первых пособиях того времени, например в «Кодексе здоровья» Альдобрандино Сиенского. В начале XIV века кто-то свет разошерщерстные рецепты на латын в специальную «Книгу о винах», и та получила широкое хождение. На самом деле еще Гиппократ рекомендовал вино — естественно, должны быть разбавленным, — для восстановления здоровья. Ученые греки и римляне считали вино «сухим» и «горячим», а воду — «холодной» и «влажной». При всей странности такого противопоставления представь себе, что именно так рассуждали и врачи, и больные вплоть до Нового времени. И «Книга о винах» тому отличное доказательство. Есть свидетельства, что в римской курии рубежа XIII—XIV веков престарелые кардиналы, увлеченные алхимиями, искали омоложения в напитках с примесью питательного золота.
Учеными греками и римляне считали вино «сухим» и «горячим», а воду — «холодной» и «влажной».


